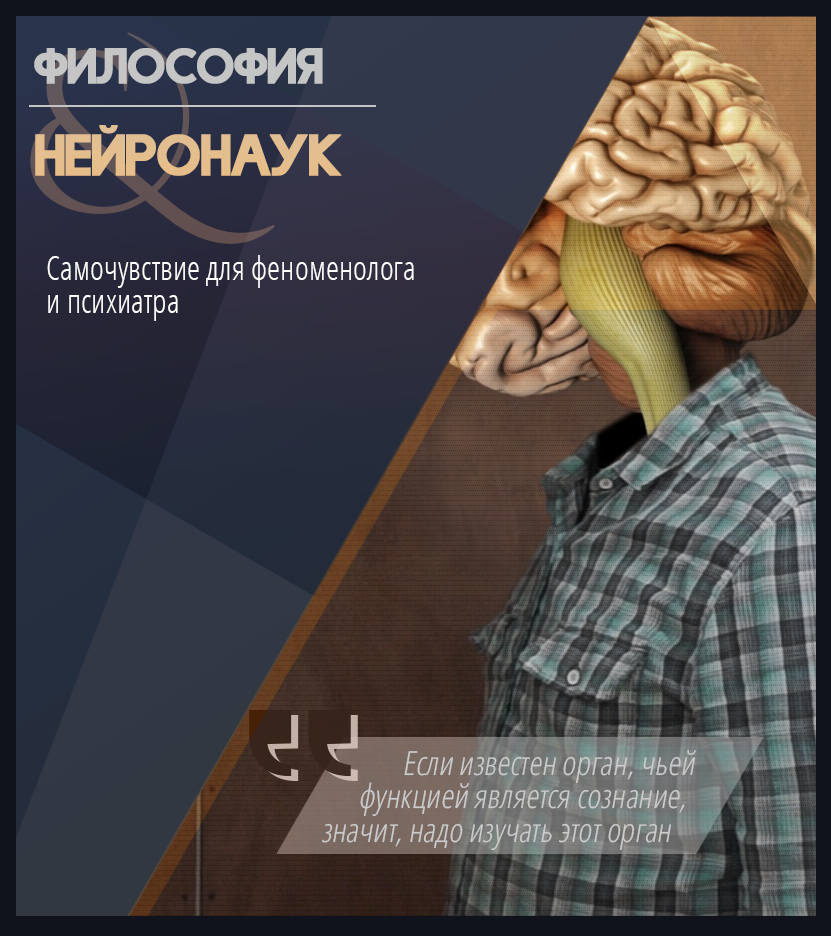
Виктор Франкл рассказывал о двух военных, оказавшихся под обстрелом в одном окопе во время Первой мировой войны. Один – врач, еврей, второй – аристократ, полковник. Полковник дразнил товарища: «Боитесь ведь, а? Еще одно доказательство превосходства арийской расы над семитской». «Конечно, боюсь, – ответил врач, – но что касается превосходства, то если бы вы, мой дорогой полковник, боялись так, как я, вы бы давно уже удрали» [1].
Примерно через 60 лет после этого диалога американский философ Томас Нагель опубликовал статью “Каково быть летучей мышью?”, эпохальный текст в истории философии сознания, начинающийся с заявления колоссальной силы: “Самосознание – вот, что делает проблему тело/разум практически неразрешимой”.
Если вдуматься, то ведь примерно это же имел в виду врач, отвечая на расистский упрек товарища. Никакие объективные данные о ситуации, в которой оказался человек (и его мозг), не способны обеспечить наблюдателя полнотой информации о том, что именно человек переживает. Так же, как невозможно представить, каково быть летучей мышью, невозможно пережить то же самое, что переживает другой человек, и почувствовать его жизненную ситуацию изнутри.
Нагель в свое время полемизировал с физикалистами. Аналогом физикалистской позиции в психиатрии является нейрореализм – убежденность в том, что сто процентов нужной информации о патологии даст аппаратное исследование мозга или какой-либо другой метод изучения функций нейронов.
Субъективный аспект переживаний не подвержен измерениям извне. Субъективное, подчеркивает Нагель, открывается с одной единственной точки зрения. Каково быть летучей мышью знает только летучая мышь. Приблизиться к пониманию того, каково быть летучей мышью, можно только воображая, что человек чувствовал бы, ведя образ жизни летучей мыши (летал, висел вниз головой и т. п.). Специфический сенсорный аппарат летучей мыши делает феноменальное поле ее сознания абсолютно уникальным и недоступным человеку даже в фантазиях. Хотя есть примеры того, как незрячие люди осваивали методы эхолокации, все равно они использовали сенсорную систему, предназначенную для других целей.
Евгений Минковский вспоминает о том, как его поразило чувство, возникшее после общения с одним пациентом. Попытавшись выразить это чувство в словах, Минковский интерпретировал его так: “Я все о нем знаю” [2]. В наборе симптомов пациента на первом месте была бредовая идея собственной значимости в международных отношениях. Вроде бы довольно необычный человек, но Минковский ощутил катастрофический приступ скуки. Больной человек, в отличие от здорового, с определенной точки зрения, лишается глубины и многомерности. Его бредовая идея, какой бы оригинальной она ни была, вписывается в хорошо известную специалисту типологию. “Я все о нем знаю” – это чувство при встрече с предсказуемым нарративом. Что-то похожее испытывает искушенный ценитель жанрового кинематографа, когда начинает смотреть фильм и безошибочно предугадывает все сюжетные ходы, включая концовку.
Но дело в том, что психическое расстройство – это не нарратив, а страдание, т. е. феноменальный опыт и вот об этом опыте Минковский ничего не знал, так же, как полковник в окопе не знал того, как именно страшно было военному врачу.
Разрыв в объяснении мира, который происходит, когда от объяснения объективного мира мы переходим к описанию субъективного опыта – это проблема для философа и психиатра. Но если для философа эта проблема существует в качестве умозрительного вопроса, широкой темы для размышлений, то для психиатра это проблема в максимально практическом смысле этого слова.
Врач может придерживаться философских принципов элиминативного материализма и отрицать реальность феноменального опыта, но пациент-то жалуется именно на самочувствие, на непорядок в субъективном пространстве, с которым врачу приходится работать вне зависимости от своих мировоззренческих позиций.
Психиатрия не могла не состыковаться с феноменологией. У них общий объект – человеческий опыт. Но разность в целях определила разность акцентов и направлений интересов. Для Гуссерля интересен феноменальный опыт индивидуума. В психиатрии люди делятся на группы по диагнозам, исходя из предположения о том, что у представителей одной группы один и тот же феноменальный опыт, т. е. одно и то же самочувствие. Психиатрия, таким образом, подходит к проблеме статистически, а не индивидуально. К тому же психиатрию, в отличие от философской феноменологии, интересуют в первую очередь аномалии.

На фото: опубликованная в 1987 г. под руководством Спитцера DSM-III-R – пересомтренная версия DSM-III
DSM-III – воплощение феноменологического подхода к диагностике. Диагноз ставится на основании тех эскизов субъективных переживаний, которыми снабжает врача пациент. Весь психиатрический лексикон состоит из описаний чего-то, происходящего в сознании человека (бред, галлюцинация, нарушение мышления и т. д.).
Слабый, с точки зрения нейрореализма и биологического редукционизма, такой подход видится прогрессивным ответом на архаику психодинамических теорий. Фрейдистский психоанализ и его наследники предлагают работать не с тем, что сознательно переживает пациент, а с некими “внутренними конфликтами”, корни которых прячутся в таинственной области бессознательного.
В научной психиатрии версии DSM-III работать можно только с проявлениями болезни, не отвлекаясь на поиски концептуальных объяснений ее причин. Наука, конечно, должна стремиться определить причины болезни. Но на момент публикации DSM-III (1980 г.) психиатрия не была готова представить миру единую, исчерпывающую теорию психических болезней. Чтобы не множить разногласия в профессиональном сообществе, составители DSM-III фактически свели все психические заболевания к их феноменологическому аспекту, т. е. к тому, что неоспоримо присутствует в жалобах пациента. Учения, типа теории о роли нейротрансмиссии в психических болезнях, могут со временем потерять свою убедительность. А человек с проблемами “в голове”, рассказывающий о том, что с ним не так, это константа в медицине. На пациента, на его изложение субъективного опыта и было решено положиться в формировании диагностических критериев.
У истоков феноменологической психиатрии стоит Ясперс (психиатр, ставший философом), который вдохновлялся “дескриптивной психологией” Гуссерля [3]. Гуссерль предлагал оставить за скобками всю метафизику, все объясняющие мир концепции, сконцентрировавшись только на том, как человек воспринимает мир. Это называется эпохе (греч. ἐποχή – задержка, остановка). Все метафизические рассуждения приостанавливаются, рефлексии нейтрализуются, знания и мнения выталкиваются за границы внимания.
Так же действует феноменологическая психиатрия с болезнью. Отбрасываются не только психологические конструкции, но и материалистические теории, которые, говоря на языке философской феноменологии, являются такими же пресуппозициями, как и не-материалистические учения о душе.
“Общая психопатология” (1913 г.) Ясперса повернула психиатрию в сторону с пути, по которому она, теоретически, могла пойти, следуя единомышленникам Гризингера, который в 1860 гг вполне однозначно утверждал: все, что мы причисляем к области психического, есть функция мозга, следовательно психиатрам надо изучать и лечить мозг. Начиная с Ясперса поле внимания психиатра раздваивается. У человека есть мозг – объект для физиолога, res extensa, вещь для рассматривания в микроскоп. У человека также есть субъективная психическая жизнь и в этом эвристическом пространстве происходит то, что приоритетно интересует исследователей психики.
Ясперс писал о том, что для понимания ментальных явлений, на которые жалуется пациент, у врача есть два инструмента. Первый инструмент – это знание того, как ментальные события связаны друг с другом, своего рода видение генезиса внутренних переживаний. Второй инструмент – личный опыт психиатра, дающий ему аутентичное знание о характере переживаний пациента [4]. Идеальные психиатры в таком случае – это Виктор Кандинский и Гаэтан Гасьян де Клерамбо, больные врачи, в честь которых назван описанный ими на собственном опыте синдром Кандинского-Клерамбо.
Врачам, только если они больны, открывается возможность воспринять объект изучения (патологический ментальный процесс) напрямую, в собственном сознании. Под больным врачом имеется в виду буквально больной человек, а не “раненый целитель” Юнга, учившего о том, что аналитик, разбираясь в чужих проблемах, неминуемо встречается лицом к лицу со своими собственными психологическими проблемами. Юнг имел в виду психотерапию со всеми ее техническими сложностями. Недоступность феноменального опыта другого человека – сложность другого порядка.
Эмпатия не решает эту проблему, но благодаря эмпатии можно хоть как-то приблизиться к переживаниям другого человека. Через эмпатию врачу открывается вид на специфический опыт пациента. Цель психиатра, таким образом, создать хорошо работающую репрезентацию чужого опыта. Ментальный процесс в сознании пациента – объект, который воссоздается в сознании врача и рассматривается так, как рассматривают смоделированную копию предмета. Феноменологическая психиатрия вся сводится к созданию репрезентаций “больных” объектов в сознании здоровых людей.
Репрезентации, по Ясперсу, могут достаточно близко подвести к опыту пациента. Но они всегда останутся искусственным продуктом, сделанным из сложного набора ингредиентов. Во-первых, материалом для репрезентации является описание переживаний, которое дается пациентом. Озвученное пациентом описание никогда не идентично феноменальному опыту, а при шизофрении само заболевание мешает точному самовыражению. То, что говорит пациент, всегда является продуктом внутренней фабрики его сознания. Опыт интерпретируется до того, как человек рассказывает о нем.
Потом самочувствие проходит вторичную обработку, когда человек подбирает слова и метафоры для его выражения. Метафоры – универсальный и действенный способ говорить о психическом опыте. В каких-то случаях только благодаря метафорам можно сделать свой опыт доступным для рефлексии [5]. Но язык метафор сложен и зависим от культурного контекста.
Третий фильтр на пути от симптома к диагнозу – понимание услышанного врачом. Самый умный, проницательный и опытный врач пропускает информацию, полученную от пациента, через сетку своего восприятия, сотканную из сложной ткани, в которой далеко не все нити имеют безупречно научное происхождение.
В соматической медицине врачам существенно легче. Им легче уловить смысл жалоб пациента. Всем врачам бывает больно, многих временами тошнит, практически все врачи доподлинно знают, что такое слабость, головокружение, потеря аппетита. Нет необходимости в моделировании опыта “как если бы”.
Способность к эмпатии в нашей цивилизации понимается как признак развитости человека. Эмпатия поощряется, в ней видится ключ к созданию неконфликтных, добрых отношений между людьми. Хорошо освоенное умение “ставить себя на место другого человека” помогает людям поддерживать мир на уровне выше уровня первобытного дикарства. В этом, собственно, и есть первооснова золотого этического правила – не делать другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Человек, способный вообразить каково это быть другим, не станет причинять другому боль.
Интересно, что эта высокая гуманистическая позиция, кажется, нелегко совмещается с другой не менее гуманистической моральной установкой, в соответствии с которой все люди уникальны и неповторимы. Ведь если другой человек уникален, вообразить его психическое состояние невозможно.
Как бы то ни было, эмпатия приближает к чужому феноменальному опыту, но барьер недоступности остается. Об этом барьере пословица “Чужая душа – потемки”. Но вдруг когда-нибудь человечество научится преодолевать этот барьер? В конце концов, в мире людей давно существует представление о Боге, чей разум способен проникать во внутренний мир человека, видеть там все и понимать на таком уровне понимания, на котором человек не способен понять сам себя. Идея доступности субъективного аспекта жизни человека исторически привязана к религии и магии. Перенесем эту идею в пространство науки.
В рамках мыслительного эксперимента можно представить интерсубъектный интерфейс, с помощью которого мозг врача подключается к мозгу пациента. Такое устройство не просто визуализирует мозг при определенных переживаниях, а даст возможность переживать точно то же самое. Позволит ли такой нейро-эндоскоп точно зафиксировать опыт пациента? Ясно, что реальные и известные на данный момент способы передачи феноменального опыта другому человеку будут слабее нейро-эндоскопа. Собственно, таких способов два: говорить о своих переживаниях и каким-либо образом действовать, снабжая наблюдателя информацией о своем внутреннем состоянии.
Говорение, кстати сказать, не всегда дает эффект. В 1972 г. в психиатрии появился термин алекситимия, обозначающий состояние, при котором у пациента нет слов для описания своего состояния. В старой литературе таких пациентов называли “инфантильными” [6]. Они не могут не только описать словами, что сами чувствуют, но еще испытывают сложности с распознаванием эмоций других людей [7]. Рассказывая о чем-то, они сосредоточены на описании операционной деятельности, т. е. они монотонно излагают внешнюю канву событий, ничего не говоря о чувствах. Есть предположение, что при алекситимии в мозге нарушен обмен информацией между более примитивными отделами и корой, в которой формируется речь. Информация о настроении и эмоциях не обрабатывается надлежащим образом и не получает символического обозначения – человек просто не может рассказать, что с ним происходит, тем самым, к сожалению, обнуляя все надежды на психотерапевтическую помощь [8].
Говорение традиционно помогает людям налаживать связь друг с другом. Насколько крепче была бы эта связь и насколько глубже было бы понимание другого человека при использование интерфейса для подключения мозга к мозгу? Можно предварительно опробовать этот вопрос на летучей мыши.
Нагель справедливо отмечает, что любые попытки вообразить, каково это, быть летучей мышью, сводятся к фантазиям о том, как человек вживается в modus vivendi летучей мыши. Сам человек, его я, привычное ощущение собственной, человеческой телесности, никуда не исчезают.
Так же будет и в том случае, когда мозг человека напрямую подключат к организму летучей мыши. Грубо говоря, такой мозг ничего не поймет. Для успешного схватывания феноменального опыта мыши мозгу человека потребуется избавиться от всего, что связано с человеческим опытом. В конечном итоге для распознавания внутреннего бытия мыши, человеческому мозгу потребуется не только интерфейс для подключения к мозгу мыши, но и изменение своей структуры.
Окончательный и единственно успешный вариант такого эксперимента будет выглядеть как превращение человека в летучую мышь, что перечеркнет весь замысел эксперимента. Ведь превратившись в летучую мышь человек перестает быть человеком, а значит, не может на человеческом языке сообщить о том, что же это такое – быть летучей мышью. В известном фантастическом фильме “Муха” человек, ставший мухой, сохраняет некие остатки человеческой психики, но, как видно. из финальной сцены фильма, это приносит ему чудовищную моральную боль.

На фото: первый подобный эксперимент по связи между двумя людьми при помощи интерфейса мозг-мозг (brain-to-brain interface). В ходе эксперимента Раджеш Рао играл в компьютерную игру, используя интерфейс мозг-компьютер. В это время в другой лаборатории находился Андреа Стокко с закрепленным на голове устройством для транскраниальной магнитной стимуляции. В результате, когда Раджнеш Рао давал мысленную команду своей руке, палец Андреа Стокко независимо от воли хозяина двигался, чтобы нажать на пробел на лежащей перед ученым клавиатуре. Андреа Стокко, описывая свои ощущения, говорит, что движения его пальца напоминали непроизвольные движения при нервном тике. Читать далее: vk.cc/77tXgO
Эксперимент с интерфейсом, соединяющим мозг человека-врача с мозгом человека-пациента, по идее, должен пройти по-другому. Все-таки это будет связь между мозгами представителей одного вида. Но сложность будет похожа на сложность при построении интерсубъектной связи с летучей мышью. Потребуется создать систему, которая будет передавать не только феноменальный опыт, возникающий в данный момент благодаря тем или иным процессам в нейронных сетях. Сознание человека, к которому будет подключаться наблюдатель, с момента рождения (и в пренатальный период) существует воплощенным в уникальном теле. Субъект-тело, leib – точка отсчета в восприятии мира. Воплощенность в теле относится к основным характеристикам феноменального опыта человека. Человек всегда живет в теле, причем не в любом, первом попавшемся или абстрактном теле, а в своем собственном, единственном теле.
Разница между двумя человеческими телами, конечно, не такая грандиозная, как между телом человека и телом летучей мыши. Но информация о теле, в котором существует мозг, не может быть незначительной для построения уникального пейзажа субъективного психического опыта человека.
Кроме того, по интерсубъектному кабелю надо будет перекачать содержание памяти. В отрыве от биографической памяти феноменальный опыт, очевидно, будет каким-то другим. Как минимум нужно будет оснастить мозг наблюдателя минимальным Я наблюдаемого человека. Без яйности (ipseity), дорефлексивного самосознания, которое остается у человека при амнезии и после разного рода сокрушительных травм мозга, субъективный опыт не существует.
И опять, как и в примере с летучей мышью, получается, что для того чтобы пережить то же самое, что переживает другой человек, придется полностью стать этим человеком. Никакой пользы для клинической психиатрии это не даст, потому что наблюдатель (врач) в ходе такого наблюдения исчезнет без остатка.
Значит, интерсубъектная передача данных должна осуществляться так, чтобы наблюдатель сохранил свою идентичность и одновременно во всей полноте пережил феноменальный опыт наблюдаемого человека. Таким наблюдателем может быть только компьютер и не просто мощный компьютер, а Искусственный Интеллект.
Здесь возникает новое противоречие. Теория сильного искусственного интеллекта не совместима с возможностью феноменального опыта. В той вселенной, в которой реально создание Искусственного Интеллекта, не существует ничего подобного феноменологии. Робот в таком мире абсолютно идентичен человеку (и гораздо умнее его), потому что, по мнению сторонников сильного искусственного интеллекта, в человеческом сознании нет ничего такого, что нельзя повторить с помощью микрочипов и проводов. В таком мире сознание полностью состоит из объективно наблюдаемых процессов.
Остается признать, что феноменальный опыт человека закрыт для всех кроме него самого.
Биологический редукционизм (нейрореализм) согласен с этим, потому что, с его точки зрения, феноменальный опыт с приватным доступом – фикция. Не все философы-материалисты согласятся с этим. Серл, например, находит место для феноменального опыта в природе и в биологии мозга. Просто нужно допустить возможность пересмотра представлений о том, как устроен материальный мир. Для феноменологов это серьезный вызов. Гусcерль и Хайдеггер отталкивались от того, что сознание ни в коем случае не может быть объектом изучения наук о природе.
Таким образом, на одном фланге располагаются те, кто против научного (не философского) изучения феноменального опыта, потому что наука не может заниматься тем, чего не существует. По словам Деннета, это было бы попыткой создать “дисциплину без методов, без данных, без результатов, без будущего, без перспектив” [9]. На другом фланге – те, кто против научного изучения феноменального опыта, потому что наука о природе не должна лезть на территорию философии.
Эксперименты с пересечением границы между феноменологией и биологией выглядят, например, так [10]. Облепленный датчиками участник исследования водит курсором иконку на мониторе или, наоборот, перемещает курсор вслед за движущейся иконкой. Авторы исследования считают, что таким образом можно проверить агентность, т. е. чувство контроля над ситуацией. При наличии агентности в мозге активируется преддополнительная моторная область и правая часть нижней теменной дольки.
Лучшее, чего может добиться наука на этом пути – найти нейрональные корреляты феноменальных состояний. Достижение этой цели вполне реально, но даже после создания подробнейшей карты сопоставлений событий в мозге и ментальных событий нельзя будет сказать, что феноменальный опыт стал доступен для объективного анализа. Разрыв между субъективным и объективным останется. Деннет считает, что само допущение существования такого разрыва подрывает научную картину мира. Но это факт, без признания которого сложно представить работающую лечебную методику в психиатрии.
Феноменологическая психиатрия Ясперса вряд ли сможет дать науке что-либо качественно новое. Дискурс феноменологической психиатрии напоминает литературоведение. Работа ученого-литературоведа начинается с классификации текстов. Во-первых, отсеиваются фальшивки. Во-вторых, тексты изучаемого писателя делятся на опубликованные и неопубликованные. Потом тексты сортируются по степени важности в творческой биографии и т. д. Периодически возникают споры о том, какой именно роман в творчестве писателя надо считать главным, а какой второстепенным. Неминуемо поднимается вопрос, по какому критерию определять, что главное в литературном труде, а что не главное. История такой науки – это история перестановок на книжной полке.
Если изучать хронологию психиатрии по истории переизданий DSM, то видно, как наука передвигается от одного способа систематизации нарративов к другому. “Тексты” пациентов архивируются, раскладываются по рубрикам, вписываются в каталоги. Что-то признается чужим, не-психиатрическим текстом, как это произошло с гомосексуальностью, вычеркнутой из каталога диагнозов. Работа вдохновляется верой в то, что аккуратная классификация феноменологического материала приведет в конце концов к пониманию природы, этиологии болезней. Но ничего подобного не происходит.
Феноменологическая психиатрия за сто лет своего существования добралась до предела своих возможностей. Пока нейро-эндоскоп, позволяющий на время побыть другим я, остается фантазией, ничего принципиально нового в изучении психического не произойдет.
Единственный путь, который остается науке, ведет в сторону от феноменологии и ее нерешаемых проблем с субъектностью и самочувствием. Психиатры до-ясперсовской и до-фрейдовской эпохи стояли на этом пути – если известен орган, чьей функцией является сознание, значит, надо изучать этот орган.
Мозг должен опять стать новым эпистемическим объектом науки о человеке. Из такой установки не следует пренебрежительное отрицание ко всему, что остается за пределами нейронауки. Весь мир духовного опыта человека ценен, но качественный прогресс в знаниях произойдет только в области нейронауки, где будут придумываться новые виды лечения и создаваться новые теории психики.
Подготовил: Филиппов Д.С.
Источники:
1 – В. Франкл “Человек в поисках смысла” М., 1990 С. 78
2 – E. Minkowski “Lived time” transl. by N. Metzel. Evanston, 1970 P. 176
3 – Wiggins O.P., Schwartz M.A., Spitzer M. Phenomenological/Descriptive Psychiatry: The Methods of Edmund Husserl and Karl Jaspers. In: Spitzer M., Uehlein F., Schwartz M.A., Mundt C. (eds) Phenomenology, Language & Schizophrenia. New York, 1992
4 -Spitzer M., Uehlein F.A. Phenomenology and Psychiatry. In: Spitzer M., Uehlein F., Schwartz M.A., Mundt C. (eds) Phenomenology, Language & Schizophrenia. New York, 1992
5 – Parnas J. et al. EASE: Examination of Anomalous Self-Experience. Psychopathology. 2005 Sep-Oct;38(5):236-58
6 – Svenaeus F. Alexithymia: A phenomenological approach. Philosophy, Psychiatry, and Psychology 6 (2):71-82 (1999)
7 – Krystal H. Psychotherapy with alexithymic patients. In: A. J. Krakowski (ed.) Psychosomatic medicine. New-York, 1983
8 – Krystal H. Alexithymia and psychotherapy. American journal of psychotherapy. 33:17-31 (1979)
9 – Dennett D. (unpublished) The fantasy of first-person science
10 – Chaminade T, Decety J. Leader or follower? Involvement of the inferior parietal lobule in agency. Neuroreport. 2002 Oct 28;13(15):1975-8.
Добавить комментарий