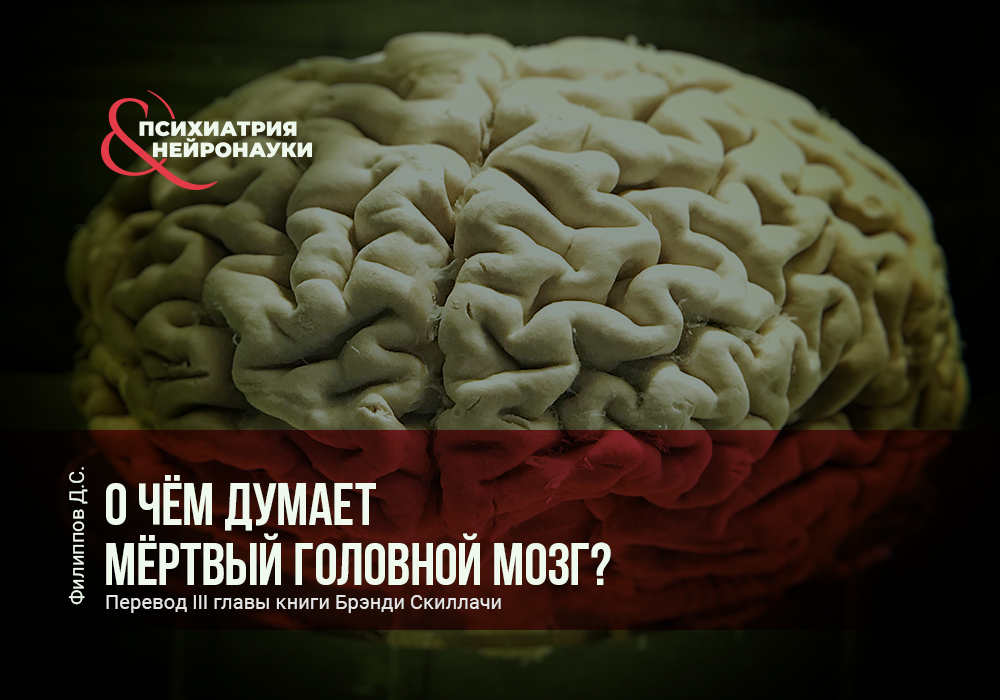
Перевод главы III книги Брэнди Скиллачи “Мистер Скромник и Доктор Мясник: Обезьянья голова, нейроученый Римского Папы и трансплантация души” (2021). Перевод главы II “Двухголовые собаки и космическая гонка”.
Погода была прекрасной для сентября. В тени листвы, наслаждаясь ветерком, Роберт Уайт перешел улицу от своей автобусной остановки к Кливлендской больнице. Охлаждаемый озером Эри, Кливленд не страдал от резких колебаний погоды, как Рочестер в штате Миннесота; осень дарила ясное утро и ярко-голубое небо. Уайт провел конец лета, переезжая с семьей в Шейкер-Хайтс – пригород на вершине холма с зелеными улицами. Уголок, занятый Уайтом в этом пригороде казался почти буколическим. Как и было обещано, дом был намного больше, чем в Рочестере – кирпичный, утопающий в зелени георгианский дом с десятью спальнями и мансардными окнами. Боковой двор, похожий на луг, скоро будет превращен в импровизированную бейсбольную площадку, футбольное поле и каток для детей Уайта и всех соседей, которые смогут присоединиться. Еще один ребенок уже был на подходе. Патриция давно бросила работу неврологической медсестры, чтобы стать главным менеджером домашнего хаоса. Уайт называл их новое жилище круглосуточным отелем-рестораном; друзья и соседи иногда называли его зоопарком. Не то чтобы дети были полностью предоставлены самим себе. В Шейкер-Хайтс были одни из лучших государственных школ в округе, что, по признанию Уайта, сыграло свою роль в выборе Кливленда для переезда. Конечно, наличие собственной исследовательской лаборатории в “Метро” тоже сыграло роль. Этим сентябрьским утром Уайт встал до рассвета, напился кофе и оделся для своего первого рабочего дня в однокомнатной лаборатории своего предшественника Байрона Блура.
Блур, предыдущий заведующий отделением нейрохирургии, родился в Москве. Москва, штат Айдахо. Единственный нейрохирург в больнице без отделения нейрохирургии, Блур работал над проблемами мозгового кровотока и потребления кислорода: как кровь и кислород циркулируют в мозге, и что происходит, когда что-то идет не так? Большинство людей знают об артериях, ведущих к сердцу; они могут даже знать медицинские термины, например, инфаркт миокарда, более известный как сердечный приступ, который может произойти, когда эти артерии закупориваются. Но сердце – не единственный и не самый важный орган в организме, к которому подведено много сосудов и который может пострадать от инфаркта. Нужно учитывать, что сердцем, легкими и всем остальным управляют сигналы из мозга. Бывают сердечные приступы, но бывают и мозговые приступы. Блур изучал инфаркт головного мозга: закупорку артерий, приводящую к отмиранию мозговой ткани. Мы можем жить с удивительно маленькими частями сердца или, используя технологии (например, внешний насос Демихова), обеспечивающие приток крови и кислорода, можем жить вообще без сердца. Но мы не можем жить без мозга. Блур жаловался, что никто не воспринимал закупорку мозговых артерий всерьез – большинство врачей плохо разбирались даже в том, как функционирует мозговой кровоток в здоровом организме. Но Уайта очень сильно интересовал этот вопрос.
Стоя у двери в лабораторию, Уайт смотрел на стальные столы, белые полки, стерильные стены. В лаборатории остались устройства для измерения мозговой жидкости: тонкостенные иглы 18-го калибра, пипетки, стеклянные сферы и пластиковые катетеры. Наследство, возможно, не было очень щедрым, но необходимое для экспериментов было в наличии. Если Уайт хочет удалить мозг, не убивая его, ему нужно точно знать, сколько кислорода приходит в мозг и сколько уходит из него и при каком давлении, чтобы он мог поддерживать эти параметры; в противном случае он рискует получить шок с последующей смертью мозга. Лаборатория, хоть и небольшая, предоставляла возможность начать работу.
Уайт предполагал, что штат Лаборатории исследований мозга в конечном счете должен быть большим. Однако для начала численность его команды была довольно скромной. Анестезиолог Морис Альбин работал с Уайтом в клинике Майо. Альбин, с серьезными чертами лица и еще не начавшими седеть, но уже редеющими волосами, выглядел моложе Уайта, хотя в свои сорок два года он был на три года его старше. У академичного и эрудированного Альбина в паре с подвижным и обаятельным Уайтом было амплуа “обычного человека”. Уайт хорошо понимал, что это означало – иметь кого-то, на кого он мог полностью положиться, человека, которому он мог доверять. Вскоре к ним присоединился Хавьер Вердура Рива Паласио, нейрохирург-ординатор родом из Мексики, по твердости рук и силе нервов уступавшему только Уайту.
Команда, состоявшая в течение первого года только из этих троих человек, с помощью медсестер смогла проделать значительную работу, в том числе разработать метод непрерывного измерения давления спинномозговой жидкости. Эти первые месяцы определили основные правила для всего, что они будут делать дальше: исследования Уайта нацелены на результат, практически применимый в реальном мире медицины. Они не только разработали метод измерения спинномозговой жидкости, но и разработали способ ее “сбора” в имплантированном пластиковом модуле – метод, который вскоре был применен в клинической практике для оценки давления и диагностики неврологических расстройств. Еще одна полезная технология была разработана во время работы Уайта над визуализацией мозгового кровообращения у обезьян, которую ему удалось создать с помощью плечевой артериографии, рентгенографического метода, дающего исследователю нечто похожее на движущийся рентгеновский снимок. Метод будет использоваться при исследовании организма младенцев. Команда также проводила операции со стволами мозга обезьян и собак, приближаясь к своей цели – изоляции мозга. Одновременно с этим Уайт заканчивал диссертацию, преподавал неврологию в Университете Западного резервного района, оперировал пациентов в “Метро” и подавал заявки на исследовательские гранты для своей лаборатории. Он и его команда нуждались в деньгах, им нужно было больше места, и им нужен был персонал. Их работа заслуживала этого, ясно указывал Уайт в своих заявках на получение гранта, потому что они занимались не отвлеченным философствованием. Он намеревался перенести результаты своей работы от собаки к обезьяне и далее, к человеку.
В итоге в 1962 году Уайт получил от Службы общественного здравоохранения США грант на исследования по изоляции мозга приматов. В заявке на грант он пообещал, что это исследование позволит ответить на обманчиво простой вопрос: как мозг усваивает энергию? То есть, сколько энергии (в форме глюкозы) и сколько кислорода требуется мозгу, чтобы оставаться неповрежденным? Уайт писал, что мозг изучался раньше, но in situ, внутри головы, прикрепленный к телу и его сосудистой системе (пусть даже ее части были перевязаны с помощью лигатур). “К сожалению, ни в одной из этих биологических моделей мозг не приближается к состоянию изолированного органа”, – писал Уайт. Чтобы его отделить и узнать, сколько энергии потребляет мозг, “все смежные ткани, связанные с метаболизмом мозга, должны быть отсечены”.
Почему такая информация была столь важна, особенно для Комитета по грантам в сфере общественного здравоохранения? Потому что в то время не очень хорошо разбирались в том, что мы сейчас считаем само собой разумеющимся, например, какая доза препарата может повлиять на мозг или какое неврологическое действие производит стресс. Для формирования представления о том, как мозг справляется с внешним воздействием (болезнь, стресс, химические вещества, фармацевтические препараты и рекреационные наркотики) нужно было знание о базовом состоянии мозга; науке необходимо было понять, как мозг ведет себя свободный от влияния тела.
Подумайте о своем мозге, уютно устроившемся в костяной колыбели у вас в голове. Теперь представьте его изолированным, отключенным от информации, поступающей от нервов и волокон, протянутых к каждому пальцу руки и ноги. Изолированный мозг был своего рода хирургическим святым граалем. Уайт и его команда хотели точно понимать, что происходит с этими клетками после автокатастрофы или инсульта. Почему мозг продолжал работать? Почему все пошло не так? Что именно произошло, когда он умер? Поскольку никто никогда не мог увидеть жизненно важные процессы мозга, не сдерживаемые телом и не связанные с телом, работа мозга оставалась в значительной степени загадочной. Следующие шаги потребовали бы творческого воображения, но Уайт уже заложил основу в своих экспериментах с Дэвидом Дональдом по охлаждению спинного мозга. Незадолго до того, как Уайт покинул Рочестер, они успешно провели перфузию обезьян. После введения 20-миллиграммового раствора пентобарбитала натрия, макака безвольно лежала, пока ее готовили к операции, брили шею и вставляли гибкую трубку в трахею для подачи кислорода. Как это бывает во всех случаях гипотермии, обезьяна перестала бы дышать сама по себе, если бы температура ее тела упала слишком низко. Уайт сделал первый разрез, но не для того, чтобы обнажить спинной мозг, а для того чтобы получить доступ к сонным артериям, к этим огромным пульсирующим сосудам на шее. Используя устройство, называемое канюлей, которое помогает соединять вены и артерии вместе, он перекачивал кровь из одной артерии в небольшой специальный теплообменник. Ледяной физиологический раствор струился по гибким трубкам теплообменника, быстро охлаждая кровь, поступающую в мозг обезьяны, минуя артерии ниже по потоку от теплообменника. Охлажденный мозг нуждался в меньшем количестве кислорода, переносимого кровью, чтобы выжить; благодаря теплообменнику, более теплые ткани тела не подвергались опасности гипотермической смерти. Уайт поддерживал избирательную гипотермию в течение тридцати минут; из восьми его испытуемых пятеро выжили без каких-либо плохих последствий.
Теперь в своей собственной лаборатории Уайт повторил эксперимент с Вердурой и Альбином. Им потребовался целый год тщательной подготовительной работы, настройка теплообменников и оценка результатов восстановления, и в конечном итоге они усовершенствовали технику. В течение тридцати минут мозг можно было рассматривать как орган функционально отделенный от тела. Надежный приток крови при охлажденной температуре означал, что мозг можно было с осторожностью полностью удалить из тела. Его можно было удалить в живом состоянии, в этом Уайт был уверен. Он готовился к тому, чтобы совершить прорыв в науке – бросить, как он думал, первый настоящий вызов Демихову во внутренней космической гонке. Уайт собирался изолировать мозг приматов.
Мы называем изолированные сердца, легкие и почки “живой тканью”, но сердце не будет биться без электрической стимуляции, легкие не будут “дышать” без внешних воздушных насосов. Даже команда по почкам Джозефа Мюррея понимала, что каждую секунду, которую орган проводит вне тела, он умирает. Несмотря на все эксперименты русского хирурга-шоумена Сергея Брюхоненко по Оживлению организмов, мертвые ткани не могли быть по-настоящему реанимированы, и причина этого сложнее обычной механики. Каждый из наших органов зависит от другого органа, управляющего его деятельностью – от того, кто приказывает биться, дышать или сокращаться. Каждому органу нужен мозг. Однако, как только вы изолируете мышление, стимулирование, обработку всей этой нейронной активности, возникает новый вопрос. Работа Уайта в лаборатории заключалась не просто в том, чтобы поставить вопрос: “Как будет функционировать изолированный мозг?” но – что важнее – является ли этот мозг сам по себе живым существом?
С виду мозг похож на студенистый суп. Научный писатель Сэм Кин сравнил его со спелым авокадо, которое можно зачерпнуть ложкой. По сути, мозг состоит из “заднего мозга” (с такими отделами, как мост, продолговатый мозг, мозжечок), “переднего мозга” (где находятся таламус, гипоталамус, гипофиз, миндалина и гиппокамп) и хорошо знакомых, мягких на вид “долей” (лобная, теменная, височная и затылочная). Эти три части иногда называют мозгом рептилий, мозгом млекопитающих и мозгом приматов. Задний мозг контролирует основные функции тела и движения; это та часть, которую мы разделяем с различными рептилиями, от игуан до комодских варанов. Передний мозг передает сенсорные стимулы и помогает улавливать и обрабатывать воспоминания и эмоции. Все, что мы ассоциируем с собственно человеческим бытием, происходит в долях, в мозге приматов. Именно здесь мы подходим к “я”, этой странной и аморфной вещи, которая, по мнению большинства людей, у них есть, а у лягушек ее нет. Когда мы спрашиваем, что значит быть мозгом, живым, но бестелесным, или каково это – просыпаться в другом теле, как могут существовать два сознания в одном теле (как Джекилл и Хайд), мы всегда начинаем с предположения, что мозг (или сознание) содержит по крайней мере часть нашей личности – и, наоборот, что его можно каким-то образом отделить от тела. Всего через несколько месяцев после получения ученой степени, в своей первой собственной однокомнатной лаборатории, Уайт сделал ставку на то, что это предположение было верным. Он каждый день оперировал мозг; каждый день его руки прикасались к опасной границе между психическим и физическим, сознанием и материей. Но ведь, в конце концов, в этом и состояла его работа.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ УМА
Чуть меньше года в Кливленде и распорядок дня Уайта стал вполне предсказуемым. Он выходил из дома до шести утра каждый будний день, а иногда и по субботам, направляясь в закусочную на Шейкер-сквер. Он привык не только пить там кофе, но и подавать его, вставая за стойку, чтобы наполнять чашки, когда в закусочной было много посетителей. Он знал имена большинства клиентов. Они, определенно, знали его имя. Он проводил дни в операционных, а по выходным возвращался, чтобы проведать ослабленных пациентов. Он потерял немало пациентов; “Метро” был больницей скорой помощи, располагавшейся рядом с самыми бедными и неблагополучными районами Кливленда. Он видел много ужасного, от пулевых ранений до следов избиений. И все же он оставался добродушным с персоналом и шутливым со студентами и медсестрами. Он прославился своими розыгрышами. Однажды возле мясной лавки, где Уайт собирал коровьи мозги для практических занятий с учениками, произошла автомобильная авария с пострадавшими, но без жертв. Он заставил своего сына Майклу передать приехавшему полицейскому коровий мозг: “Скорее, доставьте его в больницу “Метро”, чтобы там вставили его обратно!” Затем Уайт позвонил в отделение неотложной помощи, чтобы предупредить о шутке. Когда туда прибыл полицейский, регистратор в приемном отделении спросил его: “Вы знаете, в какое конкретно тело его нужно вставить?” Легкомыслие Уайта может показаться совершенно неуместным, но при всем при том он был набожным, серьезным человеком. Каждый день, уходя с работы, он заходил к Богоматери Мира на мессу в 5:30. “Отмолить грехи”, – иногда говорил он, но это паломничество давало ему гораздо больше. Церковь с неизменным святилищем, которое охраняют ангелы, нарисованные на голубом куполе, была местом, где триумфы и трагедии дня возлагались пред высшими силами. Каждый день Уайт приходил на операцию, чтобы лечить пострадавших от травм или удалять опухоли, глубоко проникающие в мозговые извилины. Каждый день ему приходилось кого-то терять. Если выбирать между слегка странным юмором и отчаянием, то лучше выбрать юмор. Но он, по крайней мере, пытался приводить в порядок свою душу, прежде чем отправиться домой, в добродушный хаос.
Старшим сыновьям Уайта было шесть, четыре и два года, дочери Пэтти недавно исполнилось три года, а новорожденный Дэнни только что появился. Кормить и одевать всех было непросто. По субботам после мессы Уайт собирал четверых старших детей и “захватывал” местный супермаркет – две полные тележки становились тремя, а затем четырьмя по мере увеличения семьи. Патриция упрекала мужа (мягко) в том, что он работает в городской больнице; зарплаты там были небольшие, и то, что Уайт иногда освобождался от оплаты счетов, не помогало. При таком количестве ртов, которых становилось все больше и больше, при необходимости покупать школьную форму, а также с учетом затрат на ведение хозяйства и ремонт, зарплаты хирурга не хватало. Когда Уайт приходил домой на ужин, что часто было его единственным приемом пищи за день, разговаривали о школьной одежде и расходах, о потребности в домработнице для защиты домашнего хозяйства от полного хаоса, и о происходящем в Хоге, соседнем районе, населенном преимущественно афроамериканцами. Патриция, всю жизнь состоявшая в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, помогала зарегистрировать там избирателей, многие из которых были сторонниками Кеннеди. для предстоящих промежуточных выборов 1962 года. Социальная справедливость была важна и для Уайта, который стремился к тому, чтобы в “Метро” было представлено больше социальных групп. Но независимо от темы разговора за ужином, иногда он не мог удержаться от того, чтобы не вернуться мысленно к своим экспериментам. Он знал, как охладить мозг, и он также понимал, как его извлечь. Но поддержание его питания кровью и кислородом после извлечения потребовало бы кое-чего большего, чем хирургическая изобретательность. Ему нужно было совершенное оборудование.
Уложив детей спать, Уайт удалялся в кабинет. Иногда он хвастался, что читает больше одной книги в день. Для его коллег это звучало как хвастовство, но его домашний офис был переполнен литературой, завален стопками газет, журналов и книг. Философия и научные исследования соседствовали с художественной литературой, в том числе с растрепанным изданием “Франкенштейна”. Уайт оставался в этом святилище с девяти вечера до двух или трех часов ночи, размышляя в тишине на фоне жужжащих радиаторов (или вентиляторов летом) и классической музыки. В темноте он представлял свою работу в трех измерениях, без рисунков на бумаге, считая, что он обладает эйдетической памятью и способностью к пространственной фантазии. Если так, то это был дар, который он разделил с Леонардо да Винчи и Николой Теслой. Визуализация позволяла Уайту “видеть” операции, а также понять, какое оборудование может потребоваться для операции. Уайт размышлял о пересадке человеческого мозга со времен своего пребывания в больнице Питера Бента Бригама, но практическая реализация осталась бы недосягаемой, если бы он не смог сделать первые шаги. Что нам нужно, думал Уайт, так это нечто вроде всем известной машины для приготовления лимонада, которую можно увидеть на заправках. С помощью чего-то подобного он смог бы поддерживать мозг в рабочем состоянии бесконечно. Но даже когда он в свою очередь встал ночью, чтобы понянчить новорожденного, Уайт не забывал о том, что механические устройства такой сложности будет трудно построить, трудно обслуживать и они будут ломаться. Что ему было нужно, так это машина другого рода; машина, которая перекачивает кровь сама по себе, посылает соответствующие электрические сигналы о нагреве и охлаждении, выполняет свою работу почти без вмешательства извне. Его маленький сын был именно такой машиной, от пальчиков ног до пальчиков рук, совершенное маленькое чудо. Уайт всегда утверждал, что тело – это лишь “машина для мозга”. Так зачем же создавать что-то новое, когда можно подключить мозг к другому живому телу? В конце концов, в этом и заключался метод Демихова.
Уайт заснул на несколько часов перед рассветом, но, когда Патриция проснулась, чтобы заняться завтраком, он уже был на ногах. В любом случае ему никогда не требовалось много сна, особенно когда у него появлялась идея, которую нужно было реализовать. Вернувшись в лабораторию, Уайт выбрал десять макак-резусов – пять поменьше, весом от 6 до 8 фунтов каждая, и пять покрупнее, весом от 15 до 25 фунтов. Он вытащит мозги у маленьких обезьян и сохранит их жизнь, используя их более крупных собратьев в качестве своего рода системы жизнеобеспечения, мешка с кровью приматов. “Изолированному” мозгу требовалось место, где его можно омыть циркулирующей кровью. Хитроумное устройство, придуманное Уайтом, выглядело на удивление грубо, и не так уж сильно отличалось от препаратов сердца и легких из русских фильмов. Мозг помещался на подвесной платформе, прикрепленной к полоске кости черепа, на которой располагались электроды. Они были подключены к электроэнцефалографу для проверки наличия электрической стимуляции, свидетельствующей о том, что мозг все еще жив. Под маленькой платформой Уайт разместил воронку, прикрепленную к резервуару (для крови), и нагревательное устройство. Все это хитроумное устройство напоминало лавовую лампу без стекла с артериальными щупальцами для циркуляции крови от донорского тела и обратно. После настройки модели ученые вернулись к участникам эксперимента, сидевшим в клетке. Хирурги были готовы.
17 января 1963 года: Уайт помыл руки перед операцией. Вместе с Вердурой и Альбином он ранее проверил каждую пару обезьян на предмет совместимости крови. Теперь тем обезьянам, что были поменьше, от которых скоро останутся только мозги, вводили пентобарбитал натрия и обездвиживали. В своих телах они больше не проснутся.
Уайт и его команда приступили к выполнению перфузии пары обезьян, отслеживая артериальное давление и используя осциллографические регистраторы для печати и хранения данных. Ли Волин, психолог-экспериментатор, и Рон Йейтс, инженер, помогли разработать системы поддержки, но в операционной Уайт полагался главным образом на Вердуру и Альбина. Альбин начал с анестезии и бритья обезьян, тщательно удаляя волосы с головы и шеи. Обезьяне-донору крови также выбривался пах, чтобы облегчить доступ к бедренной артерии. Они осторожно поместили лысую голову первой обезьяны в фиксирующее устройство, напоминающее трехпалую лапу. Ее стальные пальцы схватили голову в трех точках: небольшой деревянный блок прижимался во рту к небу, а верхний двойной коготь соединялся с костями глазниц. Шарнир на устройстве позволял Уайту поворачивать голову обезьяны на 180 градусов. Для начала обезьян усадили бок о бок, донора привязали к специально изготовленному деревянному “стулу”. Затем хирурги соединили бедренную артерию животного-донора с Т-образной канюлей, которую потом нужно будет соединить с помощью трубок с реципиентом. Затем обоих животных завернули в терморегулирующие одеяла. Уайту и его команда должны были точно знать, что температура животных, измеряемая с помощью ректального термометра, остается постоянной. Когда обезьяна-донор крови превратилась в машину для циркуляции крови для двух тел, Уайт наконец отложил в сторону свою любимую трубку. Если считать, что его интерес к тщательному иссечению тканей зародился в анатомическом кабинете католической школы, то эту минуту он ждал более двух десятилетий.
До этого момента операция была простой: две обезьяны, завернутые в одеяла, обменивались кровообращением через трубку. Теперь можно было приступить к работе с обезьяной поменьше, лежавшей на спине на регулируемом миниатюрном операционном столе. Уайт сделал первый надрез на голове. Разрез шел в продолжение угла челюсти так, чтобы можно было отвести кожу в сторону. Один за другим Уайт и Вердура отсекли и удалили передние мышцы шеи и мышцы вдоль боковой поверхности шейных костей. Затем Уайт перерезал трахею, и она вместе с пищеводом была поднята вверх и отделена от мышц у основания черепа. Тем временем ассистенты продолжали следить за жизненно важными показателями обезьяны. Кровяное давление, температура, уровень кислорода: все, казалось, было в полном порядке. Пришло время срезать лицо, и в этот момент процесс, несмотря на всю его аккуратность и стерильность, стал меньше походить на хирургическую операцию, а больше на работу местного мясника, вырезавшего коровьи мозги для продажи.
Уайт перевернул обезьяну на живот, чтобы было легче дотянуться до скальпа. Скальп был удален вместе с глазами, тканями носа и всем, что осталось от лицевых структур. Уайт проделал отверстия в черепе, а Вердура прикрепил шесть электродов из нержавеющей стали к обнаженной ткани мозга с помощью быстро застывающего стоматологического цемента. Лишенная языка, тканей рта и скальпа, обезьяна теперь представляла собой череп на теле, питаемый кровью своего партнера. Они снова перевернули обезьяну на спину и стабилизировали артериальное давление. Затем они удалили животному нижнюю челюсть, тщательно оберегая черепные нервы; их разрыв может повредить мозг. После нескольких сложных процедур сонные артерии были направлены в другую канюлю, подвешенную на проволоке над головой так, чтобы кровь из трубки попадала непосредственно в мозг. Начался процесс экстернализации кровотока наряду с подготовкой к “экстракорпоральной” (внетелесной) перфузии. Еще четыре шага, и они закончат. Уайт перерезал спинной мозг и разделил позвоночник между позвонками С1 и С2, как раз у основания головы. Тело отпало. Затем, убедившись, что давление в охлажденном мозге стабильное, они удалили опорные конструкции черепа. Наконец, совершенно неповрежденный мозг обезьяны был подвешен к небольшой полоске кости черепа и помещен в удивительный аппарат Уайта с его воронками и трубками. Операция длилась восемь часов.
На фотографиях операции причудливое, жуткое и в то же время странно знакомое зрелище. Студенистая масса мозга не очень хорошо сохраняет форму; мозг на столе для вскрытия быстро расплющивается. Но подвешенный к аппарату Уайта, залитый живительной кровью и охлажденный с целью избежать каких-либо повреждений, мозг обезьяны выглядит как образец из учебника. У извилин прекрасная топография, сосуды и вены четко выделяются – они все еще перекачивают кровь, все еще полны жизненно важных жидкостей. Это вещество совсем не серое, но румяное и розоватое. И более того, мозг все еще посылает электрические сигналы, точно так же, как это делал бы любой живой мозг внутри любого живого тела.
Сигналы мигали с интервалами, появляясь в виде пиков и впадин на распечатке ЭЭГ, как отпечатки царапающих игл сейсмографа во время землетрясения. Измеряя количество жидкости, Уайт мог утверждать, что мозг также потребляет энергию, “питаясь” глюкозой. Биохимические реакции для поддержания клеточной жизни продолжались – клетки мозга жили. Уайт поспешно делал заметки. Альбин и Вердура делали то же самое. Проснувшуюся обезьяну-донора нужно было покормить; затем исследователи продолжили наблюдать и подождали еще немного. Приютившийся в аппарате Уайта обнаженный мозг пускал сигналы, которые проявлялись в виде стрелок и черточек на бумаге; отмечавшиеся время от времени всплески могли быть случайностью, технической ошибкой. Но это продолжалось в течение двадцати двух долгих часов. Мозг, без сомнения, был ЖИВЫМ.
Уайт, сильно накачанный кофеином и сжимающий в зубах незажженную трубку, рассматривал результаты электроэнцефалограммы. Разные доли мозга оценивались по отдельности – сначала лобные, затем теменные, затем затылочные – до и после изоляции. Что бы ни происходило в мозгу обезьяны после того, как ее отделили от тела, это было не то же самое, что происходило до операции. Активность затылочной доли, отвечающей за визуальный стимул, полностью снизилась, что неудивительно, учитывая, что у мозга нет собственных глаз. В теменной доле также наблюдалось значительное изменение активности: там, где график до операции указывал на плотные, в основном последовательные подъемы и спады, на графике после операции были видны нарастающие всплески и глубокие борозды. Поскольку эта доля отвечает за обработку сенсорной информации, получаемых от других частей тела, это неожиданное расхождение может указывать на электрическую активность, которой некуда идти. А вот активность лобной доли, отвечающей за когнитивные навыки, память и решение задач, сохранила кое-что от своей первоначальной структуры. До операции на графике был небольшой плотный лес из всплесков; после операции всплески удалились друг от друга, медленно поднимаясь и опускаясь, но все еще оставаясь узнаваемыми. “Мы впервые продемонстрировали выживание изолированного мозга”, – объявил Уайт. Один из нейрофизиологов в комнате согласился с этим, предположив, что мозгу, возможно, даже лучше без своего тела. “Подозреваю, что без своих чувств он может думать еще быстрее, – предположил он. – Какого рода это мышление, я не знаю”.
Этого было достаточно для того, чтобы написать первую статью для престижного журнала “Science”. Но все же этого было недостаточно. Операции необходимо повторять, чтобы усовершенствовать, воспроизвести и подтвердить их результаты. Когда активность изолированного мозга начала ослабевать, Уайт и его команда убрали канюлю от обезьяны-донора, остановив охлаждение мозга, фактически “убив” мозг маленькой обезьяны, прежде чем он умер сам по себе. Более крупная обезьяна-донор отдохнет и наестся, чтобы поддержать жизнь другого мозга в другой раз. Для одного дня этого было достаточно, и измотанная команда отправилась домой на заслуженный отдых. Но это был не конец, а начало. Операции продолжились как только возникла возможность, с новыми парами обезьян, пара за парой в течение нескольких недель. К сожалению, каждый раз операцию приходилось останавливать на полпути из-за опасного снижения объема эритроцитов по отношению к общему объему крови, проходящей через полуизолированный мозг. Уайт предположил, что это было связано главным образом с неспособностью должным образом стабилизировать маленьких обезьян – их температура колебалась, и они теряли кровь. Он останавливал операцию до того, как обезьяны-доноры (более крупные, более дорогие и более полезные) оказывались в опасности; все доноры выжили.
Может показаться, что это было бездушной тратой обезьян или, по крайней мере, средств на исследования, но в этом эксперименты Уайта во “внутреннем космосе” шли в ногу с гонкой в открытом космосе. НАСА отправляло макак-резусов, существ, чьи когнитивные способности можно сравнить со способностями среднестатического грудничка, в смертельные испытательные полеты. Из примерно двадцати пяти обезьян космической программы почти все погибли тем или иным образом, словно в детской страшилке Эдварда Гори “Ужасная азбука”: кто-то задохнулся из-за механического отказа систем жизнеобеспечения, одна обезьяна взорвалась во время взлета, другая сгорела при входе в атмосферу, кто-то утонул в море, а несколько вернувшихся обезьян умерли в течение нескольких часов от перегрева и стресса. Ученые и хирурги утверждали, что нельзя подвергать опасности человеческие жизни, но для любой новой разработки существует длительный период внедрения. Процесс совершенствовался с участием нечеловеческих приматов.
Не только обезьяны умирали ради экспериментов. Большинство первых реципиентов пересаженных человеческих органов тоже долго не прожили. Одна успешная изоляция мозга из пяти – превосходный результат, но Уайту нужно было многое сделать прежде чем расширять эксперименты. Самая большая угроза успеху возникла в процессе перехода от двойной циркуляции (когда обезьяны соединены друг с другом, но у обезьяны-реципиента все еще работает собственное сердце) к сингулярной циркуляции, поддерживаемой только обезьяной-донором. Резкое сокращение циркуляции грозило потенциальной потерей крови; Уайт использовал прижигание, чтобы предотвратить избыточное кровотечение, но тепло от прижигания могло изменить температуру обезьяны. Для облегчения перехода Уайт к концу года добавил новые элементы к операции, включая две небольшие двигательные установки – одну для артериального кровообращения, другую для венозного кровообращения – которые могли работать независимо от 24-вольтовой батареи. Он также попросил своего инженера Рона Йейтса помочь в создании специального оксигенатора для устройств, которые будут впрыскивать воздух в кровь обезьяны через ряд трубок. Все вместе эти новые дополнения обеспечивали своего рода резервную систему циркуляции на случай, если обезьяна-донор не справится. Таким образом, мозг маленькой обезьяны будет иметь постоянную поддержку, даже когда хирурги будут подключать его к донору. Команда Уайта могла работать непрерывно в течение двадцати четырех часов. Они были готовы попробовать еще раз.
Уайт и его команда получили больше обезьян для экспериментов в период с 1963 по 1964 год. На этот раз донор сидел на высоком деревянном стуле, лаборатория наполнялась белым шумом от насосов и двигателей, используемых для преодоления разрыва между кровообращением одного тела и кровообращением другого тела. Новые технологии превратили оригинальную конструкцию похожую на лавовую лампу в систему устройств стоимостью в миллион долларов и длиной в комнату, с обезьяной на одном конце и голым мозгом на другом. Машину для приготовления лимонада, о которой думал Уайт, он не построил. Вместо этого он сконструировал лабораторного киборга: наполовину обезьяна, наполовину машина.
Врачи-ординаторы спали посменно, одна пара глаз постоянно следила за экспериментом и ухаживала за привязанным донором крови. К главным хирургам Уайту и Вердуре присоединился нейрохирург Джордж Э. Локк, а Альбин остался главным анестезиологом. Вместе они выполнили эту операцию шестьдесят три раза, и, наконец, успех перевесил неудачи. Использование искусственного кровообращения предотвратило деградацию мозга, а ЭЭГ демонстрировала заметный подъем электрических импульсов в течение двадцати двух часов. Уайт и его команда анатомировали мозг после каждой операции, окрашивая его гематоксилином, и внимательно изучали слайды под увеличением на предмет малейшего повреждения ткани. Ткани мозга выглядели нормально даже после нескольких часов перфузии и изоляции. Наконец, Уайт получил доказательства наличия электрической стимуляции, сохранения здоровой ткани и доказательство воспроизводимости эксперимента. Пришло время обнародовать работу Лаборатории по исследованию мозга.
МЕРТВЫЕ МОЗГИ УМЕЮТ ХРАНИТЬ ТАЙНЫ
К 1964 году Соединенные Штаты могли похвастаться четырьмя неврологическими обществами, среди них старейшим и самым строгим в своих требованиях к членству было Общество Харви Кушинга. Ежегодная конференция Общества Кушинга, основанного в 1931 году и обладавшего престижной и давней родословной, способствовала распространению информации о важных научных разработках. Для такого человека, как Роберт Уайт, это было самое подходящее место для выступления. Итак, двадцатого апреля он собрал чемоданы и вылетел в Лос-Анджелес с сокращенной версией статьи, которая вскоре будет опубликована в журнале Общества, дополненной удивительными (хотя и довольно кровавыми) фотографиями успешной изоляции мозга. Финальная иллюстрация, показанная собравшейся аудитории с помощью проектора, стала первым доказательством того, что хирургический грааль найден: изолированный мозг, обнаженный и отделенный от тела.
Для хирургов, сидевших за накрытыми белыми столами в гостинице “Амбассадор”, первая изоляция мозга означала возможность изучать реакции мозга на лекарства, на изменение температуры, бактериальные инфекции и на многое другое вне зависимости от влияния тела. Наконец-то они смогут найти ответы на такие вопросы, как: в чем нуждается мозг метаболически, кроме сахара и кислорода? существуют ли химические вещества, вырабатываемые самим мозгом, без участия тела? что делает мозг, чтобы защитить себя без своей телесной брони? Они пришли в восторг от техники перфузии Уайта; он был не единственным, кто рассказывал об использовании охлаждения, но у его механических изобретений были несомненные преимущества. Была только одна загвоздка.
“Каждый может придумать миллионы ситуаций, в которых это можно использовать”, – говорил несколько разочарованный Уайт по возвращении в Кливленд. Миллион ситуаций, но только не то, ради чего он выполнил эту операцию. Коллеги Уайта из Общества Харви Кушинга признали, что точки на графике говорили о том, что в изолированном мозге сохраняется электрическая активность. Но они отказались называть это сознанием. Электроэнцефалограмма, которая так взволновала Уайта, была встречена уклончиво, с пожатием плеч. “Не целься настолько высоко”, – казалось, говорили они. В конце концов, неврологическое сообщество не могло договориться о том, что следует считать смертью мозга; они не были готовы (да и особенно сильного интереса тоже не было) обсуждать, какие сигналы на графике означают жизнь мозга.
До середины двадцатого века травма головного мозга приводила к остановке дыхания, поскольку поврежденный мозг переставал посылать электрические сигналы в легкие. Вскоре наступала смерть. С появлением аппаратов искусственной вентиляции легких, которые делают вдох и выдох вместо пациента, пациенты с травмой головного мозга могли продолжать жить с помощью искусственных машин. “Смерть мозга” впервые была описана как концепция в 1956 году, но ее критерии определялись в лучшем случае приблизительно. В следующем десятилетии помогли появившиеся данные ЭЭГ. “Изоэлектрический” сигнал – плоская линия – означал отсутствие электрической информации, зарегистрированной на ЭЭГ; это стало одним из критериев смерти мозга, наряду с неподвижными зрачками, отсутствием рефлексов и отсутствием автономного дыхания. Но все еще не было ответа на главный вопрос: этот человек мертв? или его состояние “эквивалентно мертвому” и он технически мертв? В знаковой французской статье невролог Пьер Вертхаймер из Лиона вместе с двумя своими коллегами решил назвать состояние, при котором выполняются эти четыре условия, состоянием “за пределом комы”, с прогнозируемой смертью, но все же это состояние – не смерть. Казалось, до смерти еще далеко. Пациент с мертвым мозгом мог быть в состоянии “совсем как мертвый”, но это все равно не делало тело с мертвым мозгом “трупом”. С другой стороны, бестелесный мозг Уайта, может, и демонстрировал активность на ЭЭГ, что является одним из признаков жизни, но никаких других признаков не было: ни движения зрачков, потому что нет зрачков, ни дыхания, потому что нет легких, и фактически, если бы не помощь киборга, объединившего в себе обезьяну-донора и машину, не было кровообращения. Уайт, возможно, продемонстрировал чудесные вещи – взять хотя бы охлаждение мозговой ткани почти на 50 градусов по Фаренгейту ниже нормы без повреждений, – но он не мог доказать, что мозг жил, а сам за себя мозг сказать ничего не мог.
Или мог? Вернувшись домой в свой кабинет, под звуки топота множества ног – мальчики недавно обнаружили, что могут вскрывать замки кладовой разобранной ручкой Bic, чтобы выкрасть оттуда угощения на полдник – Уайт сделал набросок нового эксперимента. У него была смелая идея, но процесс нужно было разделить на три части. Во-первых, он заказал для лаборатории подопытных собак, а не обезьян. Всего их будет двенадцать, и они будут спарены так же, как и обезьяны, в качестве доноров и реципиентов. Вердура и Генри Браун, новый нейрохирург в команде, возможно, недоумевали, чем вызвано кажущееся движение вниз от приматов, но Альбин знал, что лучше не задавать вопросов. Прежде чем начать экспериментировать со своими новыми пациентами-собаками, Уайт вернулся к хирургии в Кливлендской больнице, чтобы перейти ко второму этапу своего плана. Пришло время испытать его методы перфузии там, где они были нужнее всего.
Когда Фрэнк Нулсен рискнул и нанял Уайта, он сделал это потому, что хотел, чтобы кафедра неврологии была такой же сильной, как кафедра в Гарварде. И, возможно, по этой причине где-то между апрелем и июнем 1964 года произошло нечто неслыханное. Пациент, чей случай остается анонимным, поступил на срочную операцию по поводу злокачественной опухоли головного мозга. Пока хирурги проводили операцию по удалению опухоли, команда Уайта охладила мозг пациента до 51,8 градуса по Фаренгейту (+11 С) с обычных 98,6 (+37 С). Уайт считал, что при такой низкой температуре мозг находится в состоянии анабиоза, “как актеры, замершие на сцене”. Врачи временно остановили кровоток, перевязав артерии, что позволило визуально и тактильно улучшить условия работы – то, что хирурги называют условиями “сухого поля”. Когда кровоток возобновился, а температура мозга вернулась к более высокой, пациент проснулся без каких-либо побочных эффектов.
О дебюте операции было сообщено год спустя в международном журнале “Хирургическая неврология”. Однако первое официальное клиническое испытание перфузии на людях в “Метро” было одобрено только в 1968 году и вскоре после этого было прекращено из-за опасений судебных исков. Гипотермические эксперименты Уайта в конечном итоге установили стандарт лечения пациентов с травмами в двадцать первом веке, но в то время они были лишь любопытной новинкой.
8 июня 1964 года Уайт дал свое первое в истории интервью газете “Нью-Йорк таймс”. Интервью стало возможным благодаря интересу к человеческой перфузии, которую он только что провел, но о своем выздоравливающем пациенте он сказал меньше, чем о своих обезьянах… потому что третий этап смелой идеи Уайта заключался в том, чтобы с помощью прессы ознакомить со своей работой широкую аудиторию.
“Хотя преимущества и опасности сильного охлаждения мозга являются предметом разногласий среди ученых-медиков, – говорится в статье на первой полосе, – Доктор Уайт убежден, что это один из самых мощных инструментов, которые когда-либо были в руках нейрохирурга”. Уайт описал “чрезвычайно сложную и тонкую операцию”, необходимую для изоляции мозга обезьяны, хотя и опустил неприятные подробности. Далее в статье делалось предположение о том, что хирурги смогут когда-нибудь спасать жизнь пациента без сердца или легких, сохранив мозг с помощью независимого аппарата кровообращения. Другими словами, статья представила Уайта как первопроходца. Вскоре после этого Уайт опубликовал статью “Эксперимент с изолированным мозгом обезьяны” в журнале “Nature”, междисциплинарном журнале с гораздо большим охватом, чем у Общества Кушинга. Эти первые рискованные выходы навстречу общественности создали прецедент, которому Уайт следовал всю оставшуюся жизнь: он хотел делать грандиозные, новаторские вещи, и он не стал бы делать их в тихом уголке. Вернувшись в лабораторию, его команда собиралась попробовать что-то новое – эксперимент, предназначенный для журнала “Nature”. Если дело дойдет до публикации, у статьи будет неправдоподобное название “Трансплантация собачьего мозга”.
Эксперименты Уайта с обезьянами доказали, что изоляция возможна, но без прикрепленного тела у электрических функций мозга не было реального приложения и мозг не мог взаимодействовать с окружающим миром. Поэтому Уайт намеревался извлечь мозг у маленькой собаки и, соединив сосуды, имплантировать его в специально созданный мешочек на шее более крупной собаки. Собака-реципиент выглядела бы относительно нормально, если бы не выпуклость на шее. Тем временем живой второй мозг функционировал бы в рабочем теле, которое получало бы стимулы, пока Уайт измерял бы активность мозга с помощью ЭЭГ. Он уже решил проблему “отсутствия рефлексов”. Он обнаружил, что звонок в колокольчик рядом с обрубком слухового нерва мозга инициирует ту же химическую реакцию, что и у живых животных, – и теперь у него было средство длительного “хранения”, так сказать, внутри живого животного, которое не нужно привязывать к креслу и к трубкам аппарата искусственного кровообращения. Странно, что после первой из новых трансплантаций собака не отторгла чужеродную мозговую ткань, как это было бы с почкой или печенью; мозг продолжал жить, неповрежденный и все еще функционирующий, в теле немецкой овчарки. Осознание этого факта одновременно шокировало и вдохновляло; невозможно (пока еще) заменить мозг одного тела другим, как это сделал доктор Франкенштейн (второй мозг собаки не мог контролировать тело), но если удастся преодолеть оставшиеся препятствия, тело (теоретически) примет своего нового хозяина, как будто оно было рождено для него. Искусство имитирует жизнь, наука имитирует искусство.
Уайт и его команда отправили свои результаты в “Nature” в 1965 году. Затем они стали ждать. И ждать. Публикации Уайта в академических кругах и за их пределами, а также его растущее присутствие в средствах массовой информации означали, что научное сообщество не может его игнорировать, но в то же время оно с ним не соглашалось. “О, это потрясающе, ЭЭГ выглядит великолепно, – рассказывал он, вспоминая свое разочарование в более позднем интервью. – Но думает ли этот мозг? Есть ли у этого мозга сознание?” Уайт отвечал “Да”; его коллеги по неврологии говорили “не торопись”. Это может быть просто рефлекс или какое-то еще не объясненное электрическое явление. Это может быть что угодно. Их скептицизм беспокоил его. Реакция нейробиологов, пусть и не совсем антагонистическая, отпугивала. Наступило лето, и Уайт бродил по двору в знойную погоду со своей женой. Патриция разбиралась в медицине и неустанно поддерживала мужа. Но на восьмом с половиной месяце беременности их седьмым ребенком у нее болела спина, а терпение было на исходе. “Как насчет отпуска? – предложила она. – Возьми детей с собой”.
Так началась семейная традиция, отпуск не столько для Уайта, сколько для Патриции; они называли это ее праздником “уединения”. Она осталась дома, а Уайт погрузил шестерых детей в семейный универсал и отправился в гостиницу “Брейкерс”, недалеко от парка развлечений Сидар-Пойнт на южном берегу озера Эри. Возникший беспорядок потребовал необычно регламентированных решений. Уайт заказал футболки с номерами и купил мегафон. Затем он отпустил детей на неделю на побережье. Он наблюдал из-под пляжного зонтика, периодически делая объявление: “Номер два, ты слишком далеко, возвращайся к берегу!”
На берегу озера Эри Уайт работал над все той же старой проблемой. Всего 1500 граммов веса и триллионы клеток – мозг отвечал за все, что он знал лично, и за все, что человечество понимало во Вселенной. Он знал, что мозг был средоточием сознания – он чувствовал это. Будучи слишком счастливым, чтобы выставлять себя на всеобщее обозрение, ему не очень-то и хотелось публично высказывать все, что у него было на уме. Как рассказать миру, что вам каждую ночь снятся поврежденные мозги в здоровых телах и поврежденные тела со здоровым мозгом? Как объяснить свой интерес, свою одержимость сохранением жизни этих пойманных в ловушку душ? Уайт наблюдал, как играют его дети, как их активные конечности гармонируют с их активными умами, и это, должно быть, резко контрастировало с заботившей его проблемой. Ему нужно было доказать, что сознание можно пересадить, и лучшее доказательство сознания могло предоставить само тело. Демихов и зернистые кадры его фильма, которые вместе с операцией на почке разожгли аппетит Уайта ко всему, что могла сделать наука, предложили возможное решение. Годом ранее Лос-Анджелес казался далеким местом для путешествия. Но теперь, когда он задавался вопросом, как убедить своих коллег в том, что изолированный мозг продолжает жить, он смотрел в сторону Москвы. Возможно, у Демихова и его двухголовых собак есть ответ.
В стопке корреспонденции в его домашнем кабинете лежало несколько необычно формально писем. Он откладывал их, находил оправдания, чтобы не читать. Теперь он вернулся к ним заново. Письма пришли из Первого Московского института им. И. М. Сеченова, где вроде бы проводились эксперименты Демихова.
Уайта пригласили за Железный занавес.
Автор перевода: Филиппов Д.С.
Источник: глава III книги Брэнди Скиллачи “Мистер Скромник и Доктор Мясник: Обезьянья голова, нейроученый Римского Папы и трансплантация души” (2021).